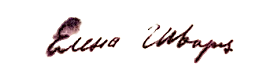Повесть
Сор летит по пляжу. Ветер воротит урны Размеры моря новей и короче. В те сумерки шло море к буре. Шло к ночи. Шло к шторму. Морю надоело глаза царапать об утёсы. Плавали окна по коридору. Свет лился, как вместе и дождь и слёзы. Я потолок учила наизусть — от прошлого, от радости и горя я синею стеной отгорожусь. Исчезла память, и исчезла грусть — пятнадцать лет в минуту смоет море. А я зубрила потолок — каждую строчку учила веками твердила всё одно, одно две трещины, три таракана и чёрное пятно. Болезнь и бред. Бессонница и ветер. Чудовища, которых нет и не было на белом свете, все в волнах чешуи и грив врывались в комнату сырую, со скрипом двери отворив. И бороду сушил седую зелёный страшный водяной. А на спинах русалок — плесень, гнильё, в глазах лишь ветер ледяной. Как прачка мокрое бельё, хвост отжимала русалка рукой. «Я не знаю, жива ли я, мертва, и сколько пальцев у меня, и рыба я или змея, и сколько дважды два. Бродила сколько дней душа моя речная, желая умереть, не умирая, бездонная, придонных рыб пугая. И всё равно, живая, я мертвей, чем лунный свет на чешуе моей». А водяной шатался и голосом, как сотня пил, кричал и выл и говорил: «О, сколько раз я умирал, но я ни разу не воскрес. Что хочешь я: то адмирал, то просто бес. В небытии вдруг стало тесно, скучно — ведь годы, и в воздух мой кулак прорезался, и голос — собственное горло — чуть не порезал: резкий — лезвие! Уж сколько лет мне ночь родимым домом, и каждый час — как угол обжитой. Но пусть скорее день, пусть серый и сырой, пусть солнце горло обожжёт, подкатит комом. Для этой бури мы слишком шатки, слишком утлы. С другого берега ты пригони к нам утро, море, сделай посветлей ночь, умерь тоску и злость — такого не видал, уж сколько лет на свете. Глодают волны берег, будто кость, на водяных бросаясь, сучьи дети. Даже водоросли, осатанев, хватаются за хвост. А сколько погибло, лежит на дне нынче медуз и звёзд». И замолчал. В окно огни и лишь вода видна. Дом вырастал — казалось, за теми огнями Земли другая сторона, и люди ходят вверх ногами. Всё тихо. Лишь водяной шептал: «Вы, дети, мне в прошлое тысячелетье вырвали зуб жёлтый, гнилой. А вы назвали его Луной». «Заткнись! — кричали русалки. — Чтоб тебе пусто!» «Да, дети, и незаконные. Не злитесь: всех Бог нашёл под капустой, под голубыми листьями. И чёрными. На огороде пыльном. Листья источены звёздами, будто червём могильным». «Заткнись! — кричали русалки. — Вот по башке ведром!» И стало тихо. Трещали балки. И на волне качался дом. Я наизусть учила потолок — каждое бревно веками твердила, всё одно, одно: две трещины, три таракана и чёрное пятно. Лежало над крышами море, гнулась жесть. Я твердила: «Мне уезжать. Ты подожди, из этих берегов не уходи. Ты оставайся, оставайся здесь!» А назавтра я уезжала. Я руки в море опустила. А после поезд увёз меня — зачем? — куда-то. И я подумала, что море мне приснилось. Но пахли пальцы солью горьковатой.