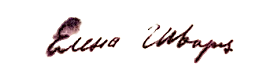Распродажа библиотеки историка
Вот тот, нагой, что там в углу сидит —
на нем чужой башмак с алмазной пряжкой —
он бледен, жалок, не был знаменит
и жил он дома меньше, чем на Пряжке.
Это в веке чужом золотят стремена,
так причудливо строят и крепко.
Но когда ты живешь-то в свои времена,
и буденовка кажется кепкой.
Потому он ушел, он сошел по мосткам -
корешков — по хрустящим оторванным - вниз —
к фижмам, к пахнущим уксусом слабым вискам,
где для яда — крапленый сервиз.
Где масоны выводят в ночи цыплят
из вареных вкрутую яиц,
но их шепот так слаб, так прозрачен наряд,
так безглазо сияние лиц!
С волной паломников он шел другое лето,
кто темные воды их пьет?
За желтой и сухой гвоздикой Назарета
дитя босое в сумерках бредет.
Он повсюду — в полях и трактирах искал
полета отравленной шпаги,
но бесплотное сердце клинок протыкал,
только разум мутя и лишая отваги.
Лик человечества — не звук пустой -
есть люди-уши, люди-ноздри, зубы.
В те дни он был небрит, весь в бороде густой,
не то что в наши дни — тончал и шел на убыль.
Все души с прочернью, как лес весной,
но вот придет, светясь, Франциск Ассизский.
Чтоб мир прелестен стал, как одалиска,
довольно и одной души, одной!
Но закрутилось колесо, срывая все одежды -
повсюду — легионы двойников,
их не найти, нет никакой надежды,
зарывшись в легионы дневников.
Идет, острижена, на плаху королева,
но чтоб замкнулся этот круг —
вперед затылком мчится дева
и смотрит пристально на юг,
Когда она подходит ближе,
из-под корсета вынимая нож,
хоть плещешься в ботинке с красной жижей,
Марат, ты в этот миг на короля похож.
Повсюду центр мира — страшный луч
в моем мизинце и в зрачке Сократа,
в трамвае, на луне, в разрыве мокрых туч
и в животе разорванном солдата.
Где в огненной розе поет Нерон
и перед зеркалом строит рожи,
Где в луну Калигула так влюблен,
что плачет и просит спуститься на ложе.
Где Клеопатра, ночной мотылек,
с россыпью звезд на крылах своих нежных,
флот деревянный - магнит уволок,
дикий, он тянет — что не железно.
Ах, он всех - он даже Петра любил,
что Россию разрезал вдоль,
черной икрой мужиков мостовые мостил,
Но душ не поймал их, вертких как моль.
Ах, не он ли и Павлу валерьянку носил,
просил - не ссылай хоть полками —
но тот хрипел, и тень поносил,
и, как дитя топотал ногами...
Он в комнате пустой — все унесли,
его витраж разбили на осколки,
пометы стерли, вынули иголку,
что тень скрепляла с пустотой земли.
Но больше он любил в архивах находить,
кого напрочь забыто имя —
при свете ярком странно так скрестить
свои глаза с смеженными, слепыми,
но благодарными.
А сам он знал,
что уж его наверно не вспомянут.
У входа, впрочем, душ един клубится вал.
А имена,как жребии мы тянем.