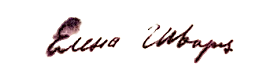Дева верхом на Венеции, и я у неё на плече
И склады по краям, и Альпы вдалеке,
В дождь, льющий слезы обожанья,
И я мешалась — в старости, во сне,
В твоих застиранных дворцах блужданья.
Синий пятнает красный, а тот — зеленый,
Все полиняло, промокло, заплесневело, прогнило.
Дева, кружась, упадает на дно морское
На Венеции — заплеснелом моем крокодиле.
Собрались отовсюду люди —
Все свои прегрешенья на деву кидали,
И Венецию ей подвели и взнуздали —
В жертву лошадь прекрасную, лошадь морскую.
Для того и явилась она на свете —
Чтобы все грехи забрала с собою,
И, кружась на Венеции мокром тритоне,
Она упадает на дно морское.
Как на растленном чьем-то мозге —
Верхом на груде черепиц
Вниз — вот она — с лицом в известке
Мгновенно-медленно скользит.
Внезапно сделавшись старухой,
Нагая, в черных кружевах,
Она ядром несется глухо
И шпорит пятками канал,
С российским кладбищем в ладони,
Ногтями впившись в Арсенал —
На студне, изумруде, на тритоне.
Дева, все грехи приявшая,
Раздулась, как вампир в гробу,
И я, свои в дорогу взявшая,
Узелком вишу на ее горбу.
А Сан-Марко блеет ягненком нежным,
Розовой кожей светясь,
И летим с Великаншей, кренясь.
Тут схватила она, чтоб не страшно лететь,
Фейерверка угасшего бледную плоть.
Разве я блудила, лгала, убивала?
Налетели грехи отовсюду, как чайки,
Как огрызок хлеба меня расклевали.
Да, я все это делала. Дно летит, разгораясь, навстречу —
На ракушке, на моллюске резном упадаю в темные дали,
Закрыв глаза и вцепясь в великаньи плечи.
Венеция, ты исчезаешь
Драконом в чешуе златой,
Под волны синие ныряешь,
Вся — с цвелью и зеленой тьмой.
Ты расползаешься уныло
Старинной золотой парчой,
И так уже ты вся остыла —
Тебе и в волнах горячо.
Вот и я на плечо ей, что птица, взлетела,
Чтоб ноши черной побольше взвалить,
И мы втроем через море — из мира —
Летим, чтоб ее развеять, разбить.
И когда мы вживили в этот мрамор лиловый,
Потемневший в дыхании долгих веков,
Кровь живую и жилы натужно-багровы,
И нечистоты общих грехов,
Там — высо́ко — в космической штольне (пролетев через шар насквозь),
Там — Творец пожалеет очерненные камень и кость,
Мрамор с грязью так срощены, слиты любовно —
Разодрать их и Богу бы было греховно,
Может быть, и спасется все тем — что срослось.
2 октября 1979