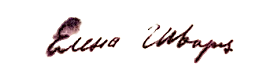Две сатиры в духе Горация
Вечеринки пик и убыль
Был час признаний в призрачной любви
И в ненависти настоящей,
Час несоленых слез и визга,
Кто-то уже вызывает такси, а кто-то приходит
Свежий с мороза и выпивает штрафную бутылку,
Кто-то выдвигает глаза
Как бы на длинных спицах,
Целясь кому-то в сердце,
И прячет их тут же в глазницы,
И слабо чуть дрогнут ресницы...
У каждого входящего
На пороге
Восьмерка крови
Начинает быстрей кружиться,
И воздух, против воли вовлеченный в эти игры,
Быстрее разлагается на составные части,
Убыстряются химические реакции,
Ярче блестят глаза,
И мое зрение становится атомарным,
И все вокруг весьма кошмарным...
Я вижу уже не комнату, а куб,
Набитый багровым и синим скоплением атомов.
Хозяин полулежит на диване,
И его кровь превращается в знак бесконечности,
В этой позе он замер,
Его одежда одухотворена,
А на других
Она как будто сложена
У газовых камер.
«Вот у вас так одинаково усы у обоих повисли.
Не стыдно вам ношеное носить тело
И думать думанные мысли?»
Бутылки, еще бутылки. Уже побурели вилки.
Повышается, понижается давление.
Включаются, выключаются участки мозга,
Говорят уже о Кропоткине: «О, Кропоткин!»
После десятой рюмки кажется,
Что все тебя поймут с полуслова,
И на вопрос толстого соседа
«Что есть Бог?»
Я отвечаю, что Бог есть любовь,
И он начинает пристально вглядываться
В вырез моей кофточки.
О как я ненавижу себя отраженной
В тусклых зрачках,
Тупостью глыбы живой
Заражают они.
О не топите меня в болоте,
О пощадите, спасите от глазной вашей плоти,
Но вы говорите — тони.
Душно. «Откройте форточку» —
Визгливо орет девица,
И пирамидальная фигура
Медленно тянется к черноте,
И живительная мороза струйка
Оживляет болтливости центры,
Хотя пристыжает чуть-чуть.
И я не помню, о чем говорю,
Вцепившись в предмет своей речи,
Как собака, мотая головой,
И при этом с акцентом.
Но тут желтый узкий человек напротив
Говорит: «Вот вы о Платоне да Цицероне,
А знаете — кто самый великий был философ?»
Все видят, что он уже готов,
Но спрашивают — кто?
«Истина лишь киникам открылась:
Кратет с Гиппархией
При всех предавались любви,
И я их за это уважаю».
«Кто? Кратер с Епархией?»
«Катет — сказали вы?» — «Кратет,
Сказал я. На все им было плевать.
И мне тоже плевать,
И, чтоб доказать,
Я готов предаться любви здесь и сейчас
С кем угодно.»
Ужас всеобщий. «Кому ты нужен? Нахал!»
«Ну не хотите, так сам с собою.»
Дама в лиловом кричит: «Есть хоть один здесь
Настоящий мужчина средь нас?»
Сразу трое киника быстро
Влекут за дверь.
Он кричит. Он проклинает
Гостей и хозяина.
Кто-то кидает бутылку,
На миг становится веселей.
«Сделайте из нас водородную бомбу
И бросьте ее на солнце!»
Ах, какую там бомбу!
Спичку зажечь — вряд ли энергии
Нашей духовной будет довольно.
И тут, уронив голову в блюдечко,
Я засыпаю безвольно.
Мне блюдце навевает чужой и длинный сон,
Встает и накреняется, как птице небосклон.
Наталья Шишигина — инструмент для проявления духов, перчатка и телефон
«Здрасьте.»
Черепаха бронзовой люстры,
Высокие зеркала.
Все замахали: «Тише. Не разбудите, тише.
Она давно уж впала в транс.»
И впрямь. Лет сорока, а волосы седые,
И в старомодном плюшевом жакете,
Глаза полузакрыты, белки сочатся мокреньким рассветом.
Рука, мучительно отогнутая вверх,
Строчит на листике, лежащем на затылке.
Терентьев рядом — сухой, в очках, с отвислою губою,
Листок забрал, она так тяжко дышит.
Мне в медиума трудно так войти...
Мне хорошо... я близко... я далёко...»
Тереньев за плечо ее схватил
И прошипел: «Кто ты? Скажи скорее.»
Шишигина покрылась белым потом
И басом низко спела: “Аввакум”.
Терентьев задрожал, подумал: «А Настасья?»
«Со мной моя Настасья», — говорит.
«Вам хорошо там?» — «Хорошо. Довольны.»
«Sic!» — в сторону Терентьев говорит.
«Нам хорошо. Но тут меня теснит
Какой-то отрок, новенький, должно быть.
Я помогу ему, ведь трудно без сноровки
Нам в медиумов этих залезать,
Как в ненадеванную узкую перчатку».
Бас замолчал, и слабый голос мальчика звенит:
«Я — Саша, мама! Видишь ли меня?»
За сердце дама в черном тут схватилась.
«Я — Саша, мама! Видишь ли меня?»
Я рядом справа от тебя —
Ну протяни мне руку и увидишь.»
Она рукой хватает голый воздух
И дышит громко, вся позеленев.
«Не видишь? Нет? Ну, значит, и не нужно,
А я тебя так вижу хорошо.
Не плачь, я стал другой... совсем другой.
Ты та же... я... я всем чужой.
Приемник мой не отдавайте Коле,
Пусть подрастет, а то сломает только.
Мне хорошо... скажите Наде,
Что я другой, что это все равно.
И пусть не плачет. Трудно... я потом…»
Несчастная упала на пол дама.
Терентьев: «Тс-с-с, еще что скажешь, Саша?»
«Устал... потом… я больше не могу...»
Шишигину Терентьев разбудил.
«Устала, как мешки таскала. Являлись, что ль?»
«Устала, бедная, гостей-то было двое,
На, выпей-ка скорей чего-нибудь.»
А дама воду пьет и шепчет все одно:
«Он сам его собрал и очень им гордился.»
И плачет.
В волненьи чаю молча напились,
Шишигиной кагору наливали.
И разошлись.
Ужели вправду мертвые так рядом,
Что видят нас и с нами говорят?
И те же мысли, те ж у них забавы?
Нет, нет! Душ отлетевших путь иной...
О Боже! Я хохот злобных бесов слышу,
Шпионов нашей жизни праздной,
Безжалостных, дурашливых и ловких,
Блуждающих, летающих повсюду,
Свои поганые нетленные тела
Сквозь наши — бренные — они проносят.
Напиток глупости надменно пьют
И тычут пальцами в Твое творенье.