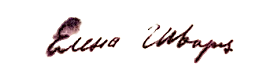Элегии на стороны света
I (северная)
М. Ш.
По извивам Москвы, по завертьям ее безнадежным
Чья-то тень пролетала в отчаяньи нежном,
Изумрудную утку в пруду целовала,
Заскорузлые листья к зрачкам прижимала,
От трамвая-быка, хохоча, ускользала
И трамвайною искрой себя согревала.
Зазывали в кино ночью — «Бергмана ленты!»,
А крутили из жизни твоей же моменты
По сто раз. Кто же знал, что ночами кино арендует ад?
Что, привязаны к стульям, покойники в зале сидят,
Запрокинувши головы смотрят назад?
Что сюда их приводят как в баню солдат?
Телеграмма Шарлотте: «Жду, люблю. Твой Марат».
Скинула семь шкур, восемь душ, все одежды,
А девятую душу в груди отыскала, —
Она кротким кротом в руке трепетала,
И, как бабе с метлой, голубой и подснежной,
Я ей глазки проткнула, и она умирала.
Посмотри — небосвод весь засыпан и сыплются крылья и перья,
Их неделю не выместь — зарыться навеки теперь в них.
Посмотри — под Луной пролетают Лев, Орел и Телец,
А ты спишь, ты лежишь среди тела змеиных колец.
Где же ангел, ты спросишь — а я ведь тебе и отвечу —
Там, где мрак, — там сиянье, весь мир изувечен.
Мраком ангел повился, как цепким растеньем,
Правь на черную точку, на мглу запустенья,
Правь на темень, на тьму, ни утесы, на смутное — в яму.
В прятки ангел играет — да вот он! В земле, под ногами.
Он не червь — не ищи его в поле ты роясь.
Видишь — светлые птицы к зиме пролетают на полюс?
Посмотрела она, застонала,
И всю ночь о зубцы запинаясь, летала,
И закапала кровью больницы, бульвары, заводы.
Ничего! Твоя смерть — это ангела светлого роды.
II (южная) На мраморную статуэтку
И. Бурихину
Девушка! Вы что-то обронили?
Ах, неважно. Это так — ступня.
Как перчатка узкая. И пылью
Голень поразвеялась, звеня.
И глядя на вас, я хватилась себя —
Нет старой любви, нет и этой зимы,
И будущей — только на мачте огонь
Горит синеватый. Да ревы из тьмы,
Да стаи ладоней кружат надо мной,
Как чайки, и память уносят, клюют,
И тьма костенеет, и скалы хрипят,
И ткань будто близко и яростно рвут,
И жизнь расползается в масляный круг —
А точкой болимой была. Обломки плывут.
Скажи мне, родимая, — я ли жила
На свете? В лазури скользила, плыла?
Изумрудную травку с гусыней щипала, рвала,
И мы с нею шептались — ла-ла да ла-ла?
В луже вечность лежала, и я из нее и пила,
Разлилась эта лужа, как море, где в волнах — ножи,
Они рубят и режут. О долгие проводы — жизнь!
А ведь Бог-то нас строил — алмазы
В костяные оправы вставлял,
А ведь Бог-то нас строил —
Как в снегу цикламены сажал,
И при этом Он весь трепетал, и горел, и дрожал,
И так сделал, чтоб все трепетало, дрожало, гудело,
Как огонь и как кровь, распадаясь, в темно́ты летело —
Где сразу тебя разрывают на части,
Впиваются в плечи несытые пасти,
Вынь памяти соты — они не в твоей уже власти.
И только любовь, будто Лота жена, блестит,
Копьем в этой бездне глухой висит.
Где полюс Вселенной, скажи мне, алмазный магнит!
Где белый и льдистый, сияющий Тот,
К которому мчатся отныне и Нансен, и Пири, и Скотт,
Чрез тьму погоняя упряжку голодных теней?
Я тоже туда, где заваленный льдинами спит
Лиловый медведь — куда кажет алмазный магнит.
Горит в небесах ли эфирный огонь,
И глаз косяки пролетают на Юг.
Птицы — нательные крестики Бога!
Много вас рвется — и снова вас много,
Вы и проводите нас до порога
Синих темнот, где найдем мы упряжку и сани,
Где через вечную тундру дорога —
Там уже мы не собьемся и сами.
III (восточная)
В. Феоктистову
Встань — не стыдно при всех-то спать?
Встань — ведь скоро пора воскресать.
Крематорий — вот выбрала место для сна!
Встань — поставлю я шкалик вина.
Господи, отблеск в витрине — я это и есть?
В этом маковом зернышке воплотилась я здесь?
Что ж! Пойду погляжу цикламены в трескучем снегу,
И туда под стекло — пташкой я проскользну, убегу.
Да и всякий есть пташка — на ветке поюща,
И никто его слушать не хочет, а он разливается пуще,
Золотым опереньем укроюсь погуще,
Погадай, погадай на кофейной мне гуще.
Потому что похожа на этот я сдохший напиток,
Потому что я чувствую силу для будущих пыток.
Боже, чувствую — на страну я похожа Корею,
Наступи на меня, и я пятку Тебе согрею.
Боже, выклюй зерно из меня поскорее.
Солью слез Твоих буду и ими опьюся,
Всяк есть птица поюща — так хоть на него полюбуйся.
И сквозь снег, продышав, прорастает горячий цветок,
Позвоночники строем летят на Восток.
Форма ангела — ветер, он войдет незаметен,
Смерть твой контур объест, обведет его четко —
Это — едкое зелье, это — царская водка.
И лети же в лазури на всех парусах,
Форма ангела — ветер, он дует в висках.
IV (западная)
Н. Гучинской
На Запад, на Запад тропою теней
Все с воем уносит — туда, где темней,
Обноски, и кольца, и лица — как шар в кегельбане,
Как в мусоропровод — и все растворяет в тумане.
Так что ж я такое? Я — хляби предвечной сосуд,
Во мне Средиземное море приливом, отливом мерцает.
Я уши заткну и услышу, что в ракушке, шум,
И сохнут моря и сердца их.
А что остается на сохнущем быстро песке?
По пальцам тебе перечислю в тоске:
Молюски, и вирши, и слизни, и локон,
Но вот уж песок, подымаясь, зачмокал.
Человеческий голос, возвышаясь, доходит до птичьего крика, до пенья.
Ах, вскричи будто чайка — и ты обретаешь смиренье.
Я и так уже тихая до отвращенья.
(Цветы от ужаса цвели, хотя стоял мороз,
Антихрист в небе шел — средь облаков и звезд.
Но вот спускаться стал, и на глазах он рос.
Он шел в луче голубом и тонком,
За ним вертолеты летели, верные, как болонки.
И народ на коленях стоял и крестился в потемках.
Он приблизился, вечный холод струился из глаз.
Деревянным, раскрашенным и нерожденным казался.
Нет, не ты за нас распинался!
Но он мерно и четко склоненных голов касался.)
Все с воем уносит — и только святые приходят назад.
(Вот Ксения — видишь? — босая — в гвардейском мундире до пят,
Кирпич несет Ксения, и нимб изо льда полыхает над ней).
Все ветер уносит на Запад тропою теней.
И стороны света надорвало пространство крестом,
Как в трещащем и рвущемся ты устоишь — на чем?
Лучше в небо давай упорхнем.
Туда — на закат, где, бледна, Персефона
С отчаяньем смотрит на диск телефона,
Где тени и части их воют и страждут,
Граната зерном утолишь ты и голод и жажду.
На Запад, на Запад тропою теней
Все с воем уносит — туда, где темней,
Обноски, и кольца, и лица — как шар в кегельбане,
Как в мусоропровод — и все растворяет в тумане.
Так что ж я такое? Я — хляби предвечной сосуд,
Во мне Средиземное море приливом, отливом мерцает.
Я уши заткну и услышу, что в ракушке, шум,
И сохнут моря и сердца их.
А что остается на сохнущем быстро песке?
По пальцам тебе перечислю в тоске:
Молюски, и вирши, и слизни, и локон,
Но вот уж песок, подымаясь, зачмокал.
Человеческий голос, возвышаясь, доходит до птичьего крика, до пенья.
Ах, вскричи будто чайка — и ты обретаешь смиренье.
Я и так уже тихая до отвращенья.
(Цветы от ужаса цвели, хотя стоял мороз,
Антихрист в небе шел — средь облаков и звезд.
Но вот спускаться стал, и на глазах он рос.
Он шел в луче голубом и тонком,
За ним вертолеты летели, верные, как болонки.
И народ на коленях стоял и крестился в потемках.
Он приблизился, вечный холод струился из глаз.
Деревянным, раскрашенным и нерожденным казался.
Нет, не ты за нас распинался!
Но он мерно и четко склоненных голов касался.)
Все с воем уносит — и только святые приходят назад.
(Вот Ксения — видишь? — босая — в гвардейском мундире до пят,
Кирпич несет Ксения, и нимб изо льда полыхает над ней).
Все ветер уносит на Запад тропою теней.
И стороны света надорвало пространство крестом,
Как в трещащем и рвущемся ты устоишь — на чем?
Лучше в небо давай упорхнем.
Туда — на закат, где, бледна, Персефона
С отчаяньем смотрит на диск телефона,
Где тени и части их воют и страждут,
Граната зерном утолишь ты и голод и жажду.